Об одной неактуальной литературоведческой проблеме — положительного героя
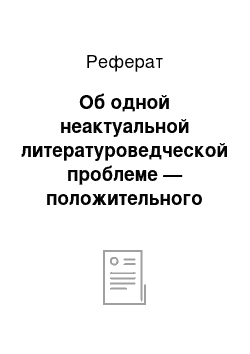
Байронический герой путешествует, но не одержим жаждой познания и открытий, как Гулливер, живет на острове, но не одерживает победы над природой и судьбой, как Робинзон, не обладает той страстной жизнетворной потребностью в любви, которая свойственна героям Руссо. Трудно найти традиционно-общественно-положительное в Рене, страдающем от избытка духовных сил, отринувшем общество и принятом в племя… Читать ещё >
Об одной неактуальной литературоведческой проблеме — положительного героя (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ОБ ОДНОЙ НЕАКТУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ — ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ
Проблема положительного героя глубоко интересовала отечественное литературоведение в советскую эпоху, что было связано с идеологической направленностью, нормативными установками, стремлением обеспечить необходимый воспитательно-идеологический результат.
Бинарная модель мышления, господствовавшая в ту пору, во многом определяла подход к этой проблеме и ее трактовку: положительный — отрицательный, романтизм — реализм, реакционный — прогрессивный, идеальный или с «червоточинкой», что в свою очередь было связано с нормативно-идеологическим подходом, доминировавшим в общественном сознании и отечественной науке. «Гвозди бы делать из этих людей»: Павел Корчагин, Камо, Алексей Мересьев — герои, которых в духе чудовищно жестокого XX века измеряли не просто пограничной ситуацией, но пыткой и смертью. Писателя века XIX оценивали в зависимости от того, принимал ли он революцию, способен ли был переступить через кровь, и вопрос о невинном младенце всегда решался не в его пользу. Разумеется, речь в данном случае идет о самых общих тенденциях, а не о реальном литературном и научном процессе, который, конечно же, не укладывался в обозначенную схему. Жизнь и литература рождали коллизии, которые ставили под вопрос идеологические каноны. В них не укладывались не только возвратившиеся с оттепелью герои, скажем, Булгакова, но и «Тихого Дона».
На рубеже XX и XXI веков проблема героя (не только положительного) «выглядит» порой и неактуальной, и во множестве научных контекстов неуместной. Разнообразные направления и жанры литературы ушедшего века неоднократно провозглашали свой отказ и от автора, и от героя.
В литературоведческих методологиях, сложившихся в XX веке, рассматривающих знаковую, структурную, нарратологическую природу художественных текстов, герой и его специфика отбрасываются в область устаревшего (мнимого) знания как составляющая неких социологических (или ненаучных, школьнических) наблюдений. В Интернете проблема положительного героя фигурирует в перечне разнообразных рефератов и школьных сочинений, связанных с творчеством Н. Островского, А. Некрасова, И. Тургенева, Ч. Айтматова. Показателен в этой связи и подбор писательских имен.
В то же время есть пространство, где положительный герой востребован. Утрата оптимистической перспективы развития, «конец истории», медиацивилизация создали свою систему ценностей, в которой положительный герой обрел свою законную функцию в тексте и контексте «жанровой», массовой «моралистической» литературы. Однако ситуация и проблема на рубеже XIX и XX веков не столь однозначны. Не умерли ни роман, ни автор, а герой — по-прежнему важнейшая составляющая идентификации читателя, не всегда массового, но обязательно широкого, ищущего человеческое и «слишком человеческое» в литературе. Хотя очевидно, что изучение героя, как и его художественное «позиционирование», эстетическая природа и функции в литературе в процессе ее эволюции меняются, и в XX веке обрели новый смысл.
Проблема положительного героя, как и проблема героя в целом, располагается на пересечении разнообразных — онтологических и исторических — пластов культуры: философии, антропологии, этики, эстетики, психологии, социологии и собственно литературы. Она вписывается в контекст взаимосвязи разнообразных идей и идеологий, изучение ее позволяет прочертить знаменательный вектор поисков смысла и смыслов человеческого существования. Современный французский исследователь Ж. Делюмо, пишет: «Изучить… историю греха, то есть историю негативного образа себя, означает проникнуть в самый центр человеческого универсума. Это означает выявить разом весь комплекс связей и принципов, определяющих коллективное сознание. Это означает воспроизвести размышления целого общества о человеческой свободе, жизни и смерти, гибели и зле. Это означает открыть присущую данному обществу концепцию взаимоотношений между человеком и Богом и его представление о Боге». Проблема положительного героя входит составляющей в историю позитивного образа себя, изучение которого тоже предполагает проникновение в коллективное сознание (добавим, и в коллективное бессознательное эпохи), отрефлектированных и неотрефлектированных представлений, сформированных на том или ином этапе общественно-литературного развития. Ведь очевидно, что споры о «сыновьях века», «новых» людях, «нигилистах», героях романов Тургенева, Чернышевского, Толстого или строителях коммунизма отражали разнообразие идеологических предпосылок и позиций: понимания путей развития общества, самого феномена положительности в литературе на том или ином этапе ее развития.
Очевидно также, что проблема положительного героя сопрягается с проблемой положительности, то есть специфики и роли морального, этического, нравственного начала в литературе. Оно противоречиво и отчетливо вычленяется в интерпретации мифа, в раннем и позднем эпосе средневековья, обретает особый статус с возникновением авторства. Оно лежит в основании принципов риторической культуры, на которые опиралась литература в античную и послеантичную эпохи. Риторическая традиция, восходящая к Аристотелю, как известно, устанавливала нерасторжимость истины, добра и красоты, нравственного и эстетического. Эволюция литературы проблематизировала составляющие этой триады и порождала разнообразные виды рефлексии. Особую роль в этом процессе сыграл выпадавший из риторических канонов и пребывающий в постоянном становлении и идентификации жанр романа (в частности, «Дон Кихот» Сервантеса), затем барочный роман. Не только к XIX веку, не только в реалистическом романе, как полагает А. В. Михайлов, «моралистическая функция» уже не придана этому слову заранее, «как слову риторическому, — все смысловое, моралистическое, ученое и назидательное и т. д. антириторическое слово должно уже восстанавливать в себе и обретать заново в связи с целостным образом действительности, возникающим в произведении». Традиции антириторического слова, ставящего под вопрос его моралистическую функцию, формируются не только в романе.
Антириторическое слово, завоевывающее свой новый статус на рубеже XVIII и XIX веков, утрачивает свою моралистическую функцию в ряде романтических дискурсов. Нам представляется интересным и актуальным осмыслить одну из магистральных тенденций становления романтизма, нашедших продолжение в литературе последующих веков, связанных с проблематизацией и разрушением категории положительности (нравственного начала как определяющего принципа функционирования литературы) и приведших в отдаленной перспективе к отказу от героя.
В это романтическое художественное пространство уходят эстетические корни не только разнообразных героев массовой культуры (фантомасов, графов монтекристо, франкенштейнов, вампиров или героев-матриц нашего времени) — персонажей, балансирующих на грани добра и зла, расшатывающих и стирающих или, напротив, на новой основе устанавливающих ее, но и героев писателей, играющих в бисер: Томаса Манна, Германа Гессе или У. Эко.
На рубеже XVIII и XIX веков проблема нравственных ценностей и эстетических ориентиров подверглась кардинальному пересмотру, и это было закономерным в эпоху слома традиций, коренных сдвигов в общественном и личностном сознании, когда «колеблются верования, умы возбуждены», когда происходило «оседание революционных почв», разрушались этические и нравственные основы общества, новые представления о чести и патриотизме, новые героичестолюбцы вступали в конфликт с «традиционными» представлениями и героями, сформированными на почве феодально-рыцарской культуры. В «Марсельезе» звучит: «Пусть нечистая кровь напитает наши нивы», — представления о крови и чести подверглись и подвергаются пересмотру с различных общественных позиций.
Литература
участвует в поисках новой этической и эстетической идентичности.
Романтизм, в своем философском и эстетическом порыве оторвавший личность от прагматической реальности, от прозы и повседневности жизни, неизбежно принижающей «прекрасную душу», увлекал ее в высочайшие сферы творчества. Но утопия духа, созданная и воссозданная иенскими романтиками, корректируемая романтической иронией, была элитарна. И как сублимирующий ее аналог и антипод на почве, гораздо более земной, в литературе возникла байроническая романтическая концепция личности, катастрофического героя, несущего в себе остро переживаемую трагедию недостижимости идеала, нравственной катастрофы, приведшей к распаду идеальной целостности, — к трагически переживаемой нерасторжимости, слиянности добра и зла. В ней нашла воплощение странная и притягательная диалектика прекрасной души, положительного начала — героя, не выдержавшего испытания жизнью и в то же время не утратившего памяти о потерянном рае, пытающегося его воскресить или сохранить как отблеск и отголосок, как неизбывную муку, в своем сознании и своей душе. Многообразие национально-эстетических модификаций образовтипов (сыновей века, болезни века, байронического героя), эволюция образа свидетельствуют о том.
Проблематизация положительного начала определяет природу этого персонажа и отношение к нему повествователя, автора и читателя. Такой герой становится несостоявшимся положительным героем: потерпевший поражение, но оставшийся непобежденным, он отвергает общество, не найдя своего места в жизни, он протестует самим своим бездействием и разочарованием против «блестящей солдатчины», угнетения и рабства, пустоты и пошлости окружающего мира, преступая законы, которые не чтит, творя «зло от неполноты добра». Он неизбежно порождает сострадание самой безмерностью своего страдания и заложенных в нем сил, как Манфред и Каин Байрона или Демон Лермонтова. Причем сочувствие, симпатия к байроническому герою распределяются противоречиво и неравномерно, но без читательского сопереживания этот герой не стал бы столь популярен, не превратился бы в инвариант «вечного образа» новой литературы последних столетий, в байронический образ-миф.
Байронический герой путешествует, но не одержим жаждой познания и открытий, как Гулливер, живет на острове, но не одерживает победы над природой и судьбой, как Робинзон, не обладает той страстной жизнетворной потребностью в любви, которая свойственна героям Руссо. Трудно найти традиционно-общественно-положительное в Рене, страдающем от избытка духовных сил, отринувшем общество и принятом в племя начезов; в байроновских героях, бросающих вызов богу, — они не спасают своей страны или возлюбленной, и если совершают подвиги, то общественное благо и любовь выступают непрямым следствием разрыва с миром. Они утверждают свою исключительность и ими же созданный антикодекс чести — по контрасту с устоявшимся и общепринятым — как кодекс, своей исключительности и гордыни. Они не испытывают удовлетворения от добрых поступков, но они и не творят их, они исходят из сосредоточенного на себе, бескомпромиссно, индивидуалистически интерпретируемого императива — морали от противного, утверждающей возможность невозможного, свободу не только во имя свободы, но и как последнее прибежище души в ее противостоянии миру, противоборстве с миром, когда орудием и целью свободы становится то ли бессмертие то ли смерть. Конрад не убивает кинжалом спящего врага, но приемлет убийство спящего, совершенное влюбленной в него женщиной. Он соучастник этого то ли подвига, то ли преступления. Байронический герой поставлен в обстоятельства, которые лишают его традиционной положительности, но притягивают и привлекают читателя. В этих обстоятельствах, в зашифрованно выраженной драме, находит выражение та философия аморализма («сильной личности»), дорогу которой по-своему прокладывал романтизм. Байронические герои разные и могут говорить от лица угнетенной Польши, как герой Мицкевича, или устами разочарованного англичанина Чайльд Гарольда, который рад любой стране, «но не стране родной», или устами Рене, занятого только собой, заброшенного, как и многие в ту эпоху французы, на чужую землю. Эти герои становятся посланцами человечества, они говорят от его лица об общем несчастье — утрате смысла жизни, не только личного, личностного, о болезненной и изломанной душе, взыскующей идеала, не выдержавшей испытания «общей» жизнью. Но что на их счету? Их потомок доведет до предельной ясности итог их жизни: погубит Бэлу, разрушит жизнь «честных контрабандистов», убьет Грушницкого, сделает несчастными княжну Мери, Веру, Максима Максимыча.
Безусловно, необходим уважительный историко-литературный контекст — понимание и мильтоновских, и шекспировских истоков, и роли того мифа, который воплотил своим творчеством, жизнью и смертью сам Байрон — «Прометей нашего времени» (выражение Белинского), символ мятежа. Но в его героях, в созданном им образе-типе эстетизация мятежа вырастает из антиномии и слиянности добра и зла. В байроническом герое обнаруживается амбивалентность добра и зла как тенденция, как распадающееся и колеблющееся, зыбкое и противоречивое единство. Оно мыслится как этап к обретению — но чего? Это еще не цветы зла, но это уже шаг к ним.
Распад тождества истина — добро — красота, произошедший на рубеже XIX и XX веков, сумерки богов, которые возвестил Ницше, о которых предостерегал Достоевский, свидетельствуя о кризисе гуманистических традиций, в то же время актуализировали проблему поисков героя, обладающего отчетливой этической доминантой.
Достижения психоанализа — фрейдистская или юнгианская концепции бессознательного, индивидуального или коллективного — сдвинули проблему положительного героя в область искусственных моделей, общественных запретов и ограничений, сместив центр этической рефлексии на периферию, что в свою очередь, усложнило конкретные художественные подходы к этой проблеме — в литературе модернизма, в творчестве М. Пруста, Ф. Кафки или Джойса. Сместило, но не отменило.
Постмодернистское отрицание героя, основывающееся на новом понимании сложности человеческой природы, языковой специфики текста и поисках сущности в игровом пространстве культуры, на границе взаимодействующих смыслов, в том числе этических, постмодернистское сознание, расщепляющее героя, однако, не может ни окончательно разрушить, ни отменить его. Отказавшись не только от авторитарности, но и от авторитетов, оно ностальгически выверяет утраченные осколки классических идеалов (Джон Фаулз, У. Эко или В. Аксенов), в то время как медийная цивилизация успешно подменяет реальность мира конструируемыми мифами и артефактами (в том числе в пространстве массовой культуры) положительного героя.
Проблема героя — идеального, пасторального, сентименталистского, романтического или романного — вполне органично вписывается в сферу литературно-общественных и научных интересов различных направлений и школ литературоведческого анализа, поскольку сопряжена с изучением разнообразных аспектов поэтологической, эстетической, собственно жанровой проблематики или феномена массового искусства. На разных этапах она обретает свой смысл.
Думается, важнейшей категорией осмысления этической составляющей текста или персонажа уже с начала XIX века становится не положительный герой, а модус положительности, нравственный потенциал и модальность, которые позволяют ввести в аналитический подход общественно, социально, идеологически отрефлектированную оценку и осмысление явлений литературы.
Проблема положительного героя — это вопрошание об эстетически реализуемой в художественном слове человеческой сущности — она не может исчезнуть не может раствориться в симулякрах, но входит в поиски смыслов внутри человеческого общения, внутри ситуации диалога, который и определяет содержание и сущность культуры.
Проблема героя, в том числе положительного героя, нравственно-этического потенциала, заключенного в нем и продуцируемого текстом, реализуемого если не в герое, то в структуре повествования, — принадлежит к вечным проблемам литературы и филологии как службы понимания, становления и совершенствования человека играющего, страдающего, читающего, человека разумного. Этическая и эстетическая концепции героя — это тот важнейший аспект реализации культурно-исторического сознания, который позволяет судить о жизнеспособности общества, мифах и мифологемах, определяющих пути его эволюции, о перспективах его развития.
Один из драматических аспектов проблемы исторической памяти, сохранения нравственных ценностей, положительного героя сделал предметом художественной рефлексии Зигфрид Ленц в романе «Живой пример», в котором авторитетные педагоги пытались подобрать для хрестоматии примеры из прошлого для современной молодежи и обнаружили несовпадение сознания поколений настолько глубокое, что оно отменяло саму возможность использования исторического опыта как живого примера. Один из педагогов отказывается от задуманного, так как его сын покончил жизнь самоубийством. Пытаясь его понять, отец узнает, что кумиром молодежи становятся музыканты, представители массовой культуры. В этом мире господствуют совсем другие ценности и представления. Не находимся ли и мы в сходной ситуации? Эта проблема актуальна и для будущих учителей, и для всех нас, вузовских преподавателей, пытающихся скрепить на почве гуманистических, ментальных, этических традиций распавшуюся связь времен.
Проблема «положительности» в наше время утратила свою не только литературоведческую, но и этическую идентичность. Однако это не отменяет задачу осмысления этической составляющей, этического, нравственного смысла и потенциала произведения и героя, его связей с общественными и эстетическими исканиями той или иной эпохи — историко-герменевтической интерпретации текста.
Категории положительного героя, этического пафоса или модальности — важные составляющие нравственных исканий культуры, духовных запросов, ценностных ориентиров, определяющих ее развитие.