Русский текст: философская рефлексия и языковая картина мира
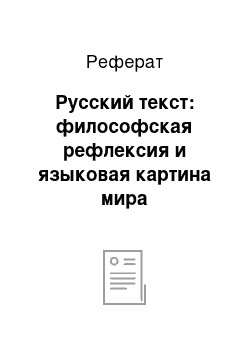
Результатом культурологической рефлексии славянофилов, народников, русской религиозной философии, символизма стал ряд идентификационных признаков русской культуры как объективно существующих, но являющихся, на самом деле, «проекцией на предмет необъективированного отношения объективации». Философская стратегия теологизации (Б. Гройс) аутентичного опыта, в рамках теории славянофилов представленная… Читать ещё >
Русский текст: философская рефлексия и языковая картина мира (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Русский текст: философская рефлексия и языковая картина мира
идентификационный русский культура текст Современный литературный текст создает пространство семантизации мира, существенно выходящее за пределы узко понимаемых «наивных», или «повседневных», картин мира, описываемых в большом количестве лингвистических и культурологических работ. Речь должна идти о новом уровне описания таких сложных культурологических феноменов, как текст культуры, философская картина мира, языковая картина мира, язык описания и ряд других. Несомненно, что все они объединяются не только задачей исследования — определения характера и границ русского текста (или русского текста культуры), но и общим онтологическим и эпистемологическим содержанием, относящим эти явления к разряду когнитивных, т. е. определяемых механизмами индивидуального языкового сознания.
Ряд обсуждаемых понятий нуждается в уточнении с учетом континуальных свойств текстов культуры, реализующих и фиксирующих картину мира. Понятие «текст культуры», остающееся не вполне проясненным в современном научном знании, требует соединения лингвистических идей связности (когезии) и цельности (когерентности) (Р. А. Богранд и В. Дресслер) с культурологической идеей смысловой проективности, согласно которой текст культуры принадлежит к числу «сверхнасыщенных реальностей», немыслимых «без стоящего за ними целого» [1]. И поскольку «стоящее за» текстом целое — культура, семиосфера, бесконечность «письма» — не может быть охвачено как завершенное, текст культуры обретает символически неисчерпаемый характер, провоцируя возможность «гиперинтерпретации». Смысл текста не только определяется в том или ином контексте, но создает контексты: текст культуры — локус пересечения контекстов, конструируемых сознанием интерпретатора и удерживаемых этим сознанием.
Можно рассматривать «тело» текста — некоторый артеили ментефакт, с одной стороны, и — с другой — его «энергию», не сводимую только к авторской интенции и возникающую в интеллектуальном взаимодействии авторского сознания, собственно текста и сознания интерпретатора, которое, в свою очередь, так же, как и культура в целом, является (1) интериоризированнным интертекстом и, в то же время, (2) точкой фокализации «горизонта понимания». Дело осложняется, когда речь идет о тексте культуры как метатекстовом смысловом инварианте (например, «петербургском тексте»), концептуально-символическиая природа которого, обладая к тому же собственной аксиологией и проективностью, не позволяет рассматривать его ни атомарно, ни артефактически. Другими словами, текст культуры есть процесс сложной рефлексии сознания (философско-культурологической по существу), «путешествующего» от артеили ментефакта к его возможным интерпретациям и обратно и при этом (в норме) — никогда не останавливающийся и не распадающийся на фрагменты.
Культурологическое знание, где «объект знает себя», «либо экранируя сознание наблюдателя, либо вступая с ним в контакт» [2], представляет собой своего рода конструкт — культурологический дискурс, референция которого либо отсутствует, либо является результатом интерпретирующей деятельности наблюдателя (в постнеклассическом мире уже не «монологического» и не «абсолютного»). Формируемая в результате концептуализации аутентичного опыта, допускающего различные стратегии означивания, культурно-национальная идентичность, в результате, может быть представлена посредством ряда текстов, не сводимых к некоему общему смысловому знаменателю.
Результатом культурологической рефлексии славянофилов, народников, русской религиозной философии, символизма [3] стал ряд идентификационных признаков русской культуры как объективно существующих, но являющихся, на самом деле, «проекцией на предмет необъективированного отношения объективации» [4]. Философская стратегия теологизации (Б. Гройс) аутентичного опыта, в рамках теории славянофилов представленная рядом известных концептов и ценностей («соборности», «мысли сердечной» и др.), стала основанием культурологического дискурса, преломленного, однако, сквозь призму рефлексирующего сознания человека начала XX столетия. И если славянофильская (или передвижническая, или народническая и т. д.) попытка семантизации некоторого наблюдаемого опыта русской культуры была попыткой встроить его в христиански ориентированную модель — при посредстве языка описания, созданного на основе евангельской тропологии и библейской символики [5], то культура модерна открыла культурологическую рефлексию как таковую. То есть создала собственно язык описания, культурологический дискурс, завершив тем самым формирование «русского текста» русской культуры посредством «двойного преображения» (Д. Сарабьянов) реальности. Русский текст русской культуры стал результатом не концептуализации аутентичного культурного опыта как такового, а концептуализации текстов литературы и философии, в новом контексте коррелирующих с мистикой и поэтикой символизма. Создаваемая в художественной и философской атмосфере модерна, такая концептуализация вычленила ряд аксиологических и смысловых констант не только литературного текста, но и повседневности, сформировав стереотипы языкового сознания и «наивной» картины мира.
Философское осмысление русской культуры, постулировавшее символизм и онтологизм в качестве способа когнитивного моделирования, с одной стороны, и воспринятая посредством Просвещения дуальность семиотических моделей с другой, реализуя западный, используя выражение Б. Гройса, «дискурс об Ином», инициировало вторичную символизацию русской культуры, приписав ей ряд признаков, якобы исконно присущих русской ментальности. Сложившаяся таким образом модель (воплощенная в концептах «соборности», «русского народа», «цельного знания» и др.) легла в основание «русского текста» культуры, визуально подкрепленного художественным модерном. Этому немало способствовала визуализация формируемых историко-культурных моделей в мастерских Абрамцева, в декорациях и музыке Мамонтовской оперы с их поэтическими аналогами от крестьянских поэтов до мистиков и символистов.
Говоря о стратегиях формирования «русского текста» начала XX столетия, следует разграничить его семантические интерпретации, включающие в себя прямые оценки русской культуры и истории, и попытку выстраивания когнитивных моделей эпистемологического характера: символизм с этой точки зрения когнитивная характеристика русского философствования. Однако моделирование русской культуры посредством символа и символизма определило его внутренние антиномии: символ концепт языка описания «русского текста» и, в то же время! объект этого описания «лента Мебиуса» русской культуры. Такая двойственность символа была изначально заложена в особенности его существования зависимости смысла от интерпретирующего сознания, семантизирующего логически нерасчлененный и аксиологически амбивалентный смысл с позиции наблюдателя: модели интерпретации и семантизации символа конституированы исторической персонологией. В семиотике XX в. связь персонологии и семиотики обнаружил Ч. У. Моррис, связавший, применительно к знаку, «четвертую позицию» семиотического треугольника с позицией Интерпретатора. В русском культурологическом дискурсе начала XX в. (например, у В. Ф. Эрна) «четвертое измерение» символа это область онтологического смысла, связанного с «недрами личности», в глубинах которой «раскрываются тайны сущего» [6]. Определивший основную черту русской культуры и философии как «логосность» (и противопоставив ее западному «ratio») и выявивший тем самым один из существенных когнитивных механизмов русской ментальности, Эрн воспроизвел в новой интерпретации и концепт-образ Софии, столь значимый для древнерусской культуры [7]. Однако Лоуод В. Ф. Эрна не просто иная концептуализация некоторого культурного аутентичного опыта это иная интерпретация софийности и софиологии культурологического дискурса начала XX столетия. Ставшая одной из «аберраций и подмен» [8], осуществляемых русским интеллигентским сознанием [9], софийность из концепта языка описания превратилась в его объект.
Созданная в ментальном и идейном пространстве русского модерна и религиозной философии модель русского текста была многократно тиражирована на протяжении XX столетия, когда произошла ее мифологизация в литературных, философских и публицистических текстах. Негласно принятым теоретически допущением такой мифологизации стала, говоря словами П. Бурдье, идея «возможности доксического опыта социального мира» [10]; собственно же мифологической платформой набор констант и концептов культуры («собраться», «воля», «общинность», «искренность» как «душа нараспашку» и т. д. [11]), трансформировавших философские смыслы в языковые примитивы. Однако конструируемая современными исследованиями русских и зарубежных лингвистов «наивная» картина мира приписывает русской культуре определенные аксиологические доминанты, выделенные на основании анализа словоупотребления без учета когнитивных тенденций современных литературных текстов. Результатом такого собственно лексикографического описания русской аксиосферы вне философско-культурологической рефлексии (текстов культуры) становится однозначная семантизация сложных континуальных смыслов.
Между тем, говоря о смысловых и аксиологических константах «русского текста», не следует устанавливать тождество модели и ее объекта: русский текст онтологически не может быть легитимирован в рамках «наивной» языковой картины мира, поскольку его пространство философские и художественные модели начала XX столетия, логические, а не символически-амбивалентные по своей природе. «Русский текст» не порожден «наивной» языковой картиной мира — напротив, его аксиологические константы и смысловые концепты заданы философской и культурологической рефлексией, универсальной платформой которой является историческая динамика литературного текста в его когнитивном измерении.
Тексты культуры не вырастают из языковой картины мира (повседневной или «наивной») — напротив, они формируют ее; наивная картина мира при этом становится своего рода хранилищем, «складом» отвердевших философских концептов и семантизированных аксиологических констант [12], в то время как текст остается семантически подвижным. Смысловая подвижность текстов культуры определяется изменчивостью логических координат интерпретирующего сознания (в рамках «большого времени» — исторической персонологии), которая, в свою очередь, дополняется подвижностью кода — языка моделирования мира [13]. Такая подвижность и кода, и картины мира (образующих систему из нескольких переменных) иногда настолько серьезна, что можно говорить об изменении кода при неизменности его «материального носителя» (набора слов и высказываний/суждений [14]) и неизменности «объекта» (опыта культуры, существенной составляющей которого является социокультурная аксиология) — референтность имеет такое большое количество условий и уточнений, что легко превращается в парадокс обоснования [15]. Это очень хорошо видно из сравнения, например, противоположных смысловых основ антиутопий В. Сорокина («Сахарный Кремль») и А. Проханова («Холм»), построенных на одной и той же исторической проекции.
Говоря о русском тексте, не следует ограничиваться постулированием ценностей свободы, любви и ответственности, милосердия и претерпевания, общинности и родства, удали, воли, истины и правды [16] как его аксиологических и смысловых константах, соединяя тем самым язык описания и аутентичный опыт культуры в ее исторической динамике: вся трагическая история.
XIX столетия говорит о наличии иной, не идеальной — не «логосной» стороны русской ментальности, которая, естественно, не могла быть представлена в культурологических дискурсах начала XX столетия. Понятийная нерасчлененность символических (амбивалентных, алогичных, парадоксальных) структур сознания становится основанием антиномизма и трагедийности. В частности, одной из таких «темных» констант русской культуры, на наш взгляд, является скука как экзистенциальная составляющая русской аксиосферы. Скука как сущностная характеристика «депроецированного», по Б. Хюбнеру, человека противоположна диалогизму и этике Другого, приводя, с одной стороны, к потребности «трансцендировать свое Я к Другому» [17], но — с другой — и к «эстетической инструментализации мира», к «мета-физическому вакууму» [18]. В этом смысле скука противоположна любви, поскольку «метафизическая природа любви — в сверхлогическом преоборении голого самотождества „я = я“ и в выхождении из себя, а это происходит при истечении на другого, при влиянии на другого силы Божией, расторгающей узы человеческой конечной самости» [19].
Являясь «вторжением времени в нашу систему ценностей» [20], по словам И. Бродского, и порождая «способы душевного самоопределения русского человека» [21], скука помещает человеческое существование в перспективу, конечный результат которой — смирение [22], с одной стороны, и стремление «инструментализировать» мир в желании вырваться из «тавтологический идентичности Я = Я, прочь из прорехи бытия», по выражению Б. Хюбнера [23], — с другой. Экзистенциально-символическая (амбивалентная, логически не артикулированная) природа «русской хандры» представляет собой наиболее очевидную экстраполяцию символических структур сознания, в иной проекции представленных в концептуализации логосности, софийности, соборности и т. д. Антиномия соборности, любви, душевности, с одной стороны, — и скуки — с другой, определила очевидную двойственность русской истории, где высшие проявления духовности оказались сопряжены с разгулом стихии «бессмысленности и беспощадности». В конечном счете, тотальная культурная маргинализация, столь очевидная для России конца XX — начала.
XX в., также имела своим истоком не что иное, как экзистенциальный опыт скуки (примеры из художественной литературы от Пушкина до Чехова и Платонова и от Платонова до Э. Багирова и С. Минаева не требуют пересказа).
Концептуализация русского текста провоцирует двойственность его интерпретации — с одной стороны, в качестве текста «русскости» как таковой — любое описание которого становится одной из возможных моделей некоторой ускользающей от однозначного прочтения ментальной, когнитивной, ценностной реальности, с другой — как способа когнитивного моделирования и семантизации мира посредством текста — ощущаемого результата порождающей деятельности русского языкового сознания в пространстве языковой картины мира русской культуры. Следует признать, что понимание русского текста как текста «русскости» должно быть существенно пересмотрено — и главным образом вследствие признания его когнитивно-моделирующего, а не объективно-реального статуса. «Русский текст» в этом значении опыт «повествовательной» (используем выражение П. Рикера) идентичности, а не идентичности психологической или онтологической. Гораздо важнее и научно продуктивнее попытаться описать современный русский текст как результат деятельности сознания современного (русского) человека, отражающий анфиладу культурно-исторических смыслов (в т. ч. и русский текст текст «русскости» как таковой [24]). При этом моделирование порождающей деятельности русского языкового сознания должно исходить не из узко лексикографических или шире концептографических описаний, но из фундаментальной модели языковой личности, порождающей и воспринимающей тексты. Для современного русского текста, построенного на парадоксальности постмодернистского представления реальности как системы переменных, очевидно «падение референциальной соотнесенности» [25], что мотивировано асимметричной бинарностью знака (когда значение не равно употреблению). В то же время современное русское языковое сознание подвергает переосмыслению тексты прошлых эпох в рамках актуальной постнеклассической картины мира. Текстовая реальность, независимо от порождающей ее культурно-исторической парадигмы, предстает в форме логической игры парадоксального означивания, приобретающей вид случайных суждений, построенных на базе бесконечно вариативного словаря понятий. Такой «когнитивный (или = „тезаурусный“ Ю. Караулов) поворот» в индивидуальном языковом сознании представляет собой изменение культурно-антропологических характеристик, качественно отличающихся от когнитивных моделей начала XX в.
Формирование в актуальном сознании структур Другого/Иного становится механизмом замещения символически-амбивалентных смыслов депроецированного человека когнитивными моделями индивидуального сознания, что является основанием качественных изменений русского текста как такового. «Когнитивный поворот» индивидуального сознания это показатель движения индивидуального сознания по антропологической восходящей «кривой» от воспроизводства смыслового тождества до воспроизводства и производства смыслов: картинка когнитивного «калейдоскопа» не останавливается, а перетекает в новую картинку, заставляя сознание непрерывно моделировать языковую картину мира не как набор констант и примитивов, а как ряд нетождественных смыслов. Но сколь бы нетождественным самому себе ни оказывался производимый смысл, какие бы анфилады интертекстов и историко-культурных контекстов ни выстраивал бы автор (который, по определению, умер, оставив вместо себя упомянутую интертекстуальную перспективу), само наличие текста оказывается возможным только в случае существования некоторой аксиологической «призмы», обеспечивающей тексту его кореферентность, когезию и когерентность.
В таких обстоятельствах «расширяющейся коммуникации» значение слова и значение предложения не могут обладать достаточным информационным объемом для обеспечения работы системы «смысл текст», а в случае фразеологизации (на которую часто указывают, как на «носительницу» смыслов-констант «русскости») вообще утрачивают информативность, играя роль ситуативного или социального дейксиса, фиксируя маргинальные рамки «свой/чужой» и «правильный/неправильный». Идея этничности языкового сознания, его стандартизованной психолигвистической и социокультурной реактивности, которая теперь часто применяется к языкам и народам, обладающим развитой книжно-письменной культурой и интеллектуальной традицией, имеет на самом деле ряд ограничений.
Эпистемологические и философско-рефлексивные признаки современного русского текста демонстрируют коррелятивную (частичную, функциональную) симметрию между двумя относительно независимыми мирами семиосферы: миром индивидуальных смыслов и миром смыслов культуры, выявляющихся в ходе интерпретации текстов культуры. Эта корреляция «через тексты» (когнитивный мостик) оказывается аксиологически детерминированной в не меньшей степени, чем философско-культурологический дискурс как таковой. Другими словами: современный русский литературный текст, вне зависимости от объекта и способа описания, обладает признаками аксиологичности и культурологической рефлексивности, соотносимыми с культурно-философскими константами конца XIX начала ХХ в. Вопрос только в разной степени их экспликации в произведениях, например, Марины Палей или Людмилы Улицкой (морально-этический дискурс), с одной стороны, и Виктора Пелевина, Михаила Веллера или Владимира Сорокина (жесткий социально-этический дискурс) с другой, при очевидной близости их экзистенциального опыта.
Таким образом, современный литературный текст как одна из наиболее универсальных моделей русского текста обнаруживает актуальную амбивалентную деструктивность тех непроясняемых символических сущностей русского сознания, о которых говорилось в нашей работе. Последствия подобного процесса, далеко до конца не исследованного, пока предмет футурологических антиутопий.
- 1. Топоров, В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) [Текст] / В. Н. Топоров // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. Избранное. М.: Изд. группа «Прогресс» «Культура», 1995. С. 259.
- 2. Гиренюк, Ф. И. Хвост ускользающей субъективности: Почему закатилась звезда социальных наук? [Электронный ресурс] / Ф. И. Гиренюк. Интернет-ресурс Ex libris / Кафедра: иллюзия, социум, наука. 2008. 31 июля. № 2226 (471).
- 3. К этому ряду легко добавляются и те образы «русскости», которые были созданы в рамках театральной и музыкальной жизни XIX и XX вв. (в операх М. И. Глинки и М. П. Мусоргского, в дягилевском модернистском проекте «русских сезонов», в создании В. В. Андреевым усовершенствованной «русской» балалайки или русской песенности Б. Трояновским).
- 4. Бурдье, П. Практический смысл [Текст] / П. Бурдье [пер. с фр.], общ. ред. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. С. 69.
- 5. В этом смысле показателен народовольческий цикл И. Е. Репина, сквозной метафорой которого является христианская жертвенность и путь на Голгофу. Cm. Поспелов, Г. Г. Русское искусство XIX века. Вопросы понимания времени. Очерки [Текст] / Г. Г. Поспелов. М.: Искусство, 1997.
- 6. Эрн, В. Ф. Борьба за Логос [Текст] / В. Ф. Эрн. М.: Путь, 1911. С. 96.
- 7. Само появление категории софийности в древнегреческом языке, по мысли В. Н. Топорова, в противоположность понятию логоса, было семантически связано с понятием `символ' {Топоров, В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. I. Первый век христианства на Руси. [Текст] / В. Н. Топоров. М.: Гнозис, Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 73). Говоря о связи концепта Софии с категорией возвратности, В. Н. Топоров отмечает наличие семантики самосозерцания, углубленности мысли на себя, наполненности (Там же. С. 78). С этим наблюдением коррелирует обоснование Эрном символизма как онтологической константы русской культуры.
- 8. По мысли С. С. Хоружего, В. С. Соловьев, стоявший, как известно, у истоков и русской софиологии, и религиозной философии, и символизма, «своей Софией не просто оказался созвучен слабостям и соблазнам этой эпохи, но доброй долей создал эти соблазны» (см. Хоружий, С. С. Перепутья русской софиологии [Электронный ресурс].
- 9. Там же. Режим доступа: http://horujy.chat.ru. Загл. с экрана.
- 10. Бурдье, П. Практический смысл… С. 51.
- 11. Cm., напр.: Зализняк, А. А. Ключевые идеи русской языковой картины мира [Текст] / А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. М.: Языки славянской культуры, 2005.
- 12. К таковым относятся, например, представления о якобы исконно присущем русскому человеку милосердии, непонятно как согласующиеся с мрачными годами кровавых бунтов (вспомним «Историю пугачевского бунта» А. С. Пушкина) или ужасом ГУЛАГа.
- 13. Ajdukiewicz, К. Das Weltbild und die Begriffsapparatur [Text] / K. Ajdukiewicz // Erkenntnis. 1934. Bd. 4. S. 259.
- 14. Ibid. S. 261.
- 15. Куайн, У. В. О. Онтологическая относительность [Текст] / У. В. О. Куайн // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: учеб. хрестоматия / сост., пер., прим., ком. А. А. Печенкина. М.: Изд. корпорация «Логос», 1996. С. 58.
- 16. Cm. список «ключевых идей» русской языковой картины мира в: Зализняк, А. А. Указ. соч. С. 12.
- 17. Хюбнер, Б. Произвольность этоса и принудительность эстетики [Текст] / Б. Хюбнер [пер. с нем.]. Минск: «Пропилеи», 2000. С. 72.
- 18. Там же. С. 87.
- 19. Флоренский, П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах [Текст] / П. А. Флоренский. М.: Путь, 1914. С. 17.
- 20. Бродский, И. А. Похвала скуке (речь перед выпускниками Дартмутского колледжа в июне 1989 года) [Текст] / И. А. Бродский // Знамя. 1996. № 4.
- 21. Исупов, К. Г. Хандра [Текст] / К. Г. Исупов // Космос русской культуры (в печати).
- 22. Бродский, И. Указ. соч.
- 23. Хюбнер, Б. Указ. соч. С. 86.
- 24. В этом смысле весьма показательна современная русская (постмодернистская) проза (М. Палей, М. Шишкина, Т. Толстой и т. д.), выстраивающая аксиологические константы и концептуализирующая мир (порой парадоксально) в культурно-релевантных для России парадигмах и моделях.
Куайн, У. В. О. Онтологическая относительность… С. 58.