«Каллиграммы». Живопись и слово
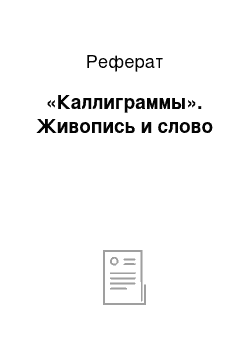
В «Каллиграммах» Аполлинер использует такой новаторский приём, как изменение направления строк. Вместо того, чтобы располагать их по горизонтали, он заставляет некоторые из них переворачиваться, менять направление (что позволяет наиболее явно разделить стихотворение на отдельные фрагменты), как в стихотворениях «Идёт дождь» («Il pleut»), «Клубы дыма» («Fumйes»). В других стихотворениях строки… Читать ещё >
«Каллиграммы». Живопись и слово (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Начиная с 1914 года Аполлинер создаёт так называемые «каллиграммы», которые облекают поэтический образ в соответствующую графическую форму, то есть располагает стихотворение таким образом, чтобы его текст образовывал рисунок (дом, косые линие дождя, сердце, корона).
В одном из писем, адресованных Андре Бийи, Аполлинер провозглашает: «Что же до „Каллиграмм“, то они воспевают поэзию верлибра и точность типографического изображения в эпоху, когда типография приближается к завершению своего существования, в эпоху появления новых средств воспроизведения информации, таких, как кино и фонограф».
Такие прогнозы частично оправдались: достаточно вспомнить записи поэтических произведений на пластинках и магнитофонной ленте, особые звучащие журналы, киноадаптации стихотворений, порою завоёвывающие мировую известность (например «Роза и Резеда», по стихотворению Арагона, с участием Барро).
Разумеется, закат типографии в самом широком смысле этого слова, учитывая все современные усовершенствования, о которых Аполлинер не мог ничего знать, ещё не наступил. Однако, спустя почти сто лет после написания этих строк, слова Аполлинера кажутся почти пророческими. Он был одним из первых, понявших и отразивших в своём поэтическом творчестве, что культурная революция была напрямую связана с революцией технической, с появлением новых средств воспроизведения и передачи информации, как, например, фонограф, телефон, радио и кино (не говоря уже о телевидении) — средств, которые позволяют сохранять и распространять информацию, речь, саму историю, не прибегая к посредству письма. Это заставляет взглянуть на письменность по-новому и с иной точки зрения рассмотреть такой основополагающей элемент нашей культуры, как сама книга.
В предисловии к сборнику «Каллиграммы» Мишель Бютор отмечает, что «читать означает, в первую очередь, смотреть». Но чрезвычайно высокая скорость чтения, к которой мы на сегодняшний день принуждены, заставляет нас отбросить визуальный аспект чтения, как можно скорее проникнуть сквозь него, чтобы добраться до смысла, дочитать до конца, иметь возможность сказать: «Да, я прочёл» и вынести своё суждение. Огромное значение приобрели в наши дни иллюстрации, которые, конечно, заставляют наш взгляд чуть дольше задержаться на странице. Однако зачастую качество и художественная ценность иллюстраций оставляет желать лучшего и многие крупные газеты, например, ограничиваются размещением на своих страницах рекламных изображений, которые не удосуживаются предварительно проконтролировать.
По словам М. Бютора, «письменность, буквы — это тоже изображение, картинка, образ, и проблема её взаимоотношений с другими типами изображений имеет давнюю историю. Но с появлением и развитием книгопечатания интерес к этой проблеме постепенно угас. И только самые тонкие и проницательные умы, как, например, Рабле, Руссо, Нодье, Бальзак, Гюго, Льюис Кэрролл уделяли ей достаточно внимания».
В начале XX века интерес к проблеме языка и слова приобретает особое значение. В языке стали видеть носитель глубоких метафизических смыслов, возникает идея о самоценности письма, некоторые философы полагали, что «формы букв говорят гораздо более слов, искреннее их». Проблема слова считалась едва ли не основной проблемой мировоззрения, новая концепция языка относится к лингвистической ветви философии всеединства, то есть связана с концептом космизма, стремлением как можно более полно познать окружающий мир.
Считалось, что имя вещи есть также и субстанция вещи, а стало быть, владение именем (словом) есть залог владения миром. Таким образом, слово оказывалось средством и способом не только создания иных миров, но и понимания и покорения мира существующего и человека в его составе.
Онтологизация слова как целостного концепта бытия не только не искючала пристального внимания к атомарному составу художественной формы, но строилась на таких микроэлементах культуры, которые никогда ранее не были предметом эстетического внимания. Новый космос создавался даже не из слов и не из букв, а из звуков, графем и их элементов, которым придавалось едва ли не сакральное значение.
Важно подчеркнуть, что этими элементами были не только идеограммы, по определению обладавшие закреплённой семантикой, но и графемы, лишённые собственного значения или взятые вне такового.
Для художников XX века было необходимо осободить слово от рационально-утилитарного груза значений, предоставить ему возможность претвориться в самостоятельную, новую, совершенную реальность, освобождённую от всех прежних координат — времени, истории. Материалом творчества оказывалось не смыслонаполненное слово, а слово, свободное от вложенного в него культурой смысла, семантически свободный знак, который, однако же, в новом контексте обретал коннотации адамической первозданности, превербальной, дорациональной эссенциальности.
При этом распыление, разложение, атомизация культурного дискурса не означали самодовлеющего нигилизма, напротив, именно поиск первосущностей, устремлённость к проторечи свидетельствовали о стремлении изобрести новый, тотальный, абсолютный язык культуры. И Аполлинер стоял на пороге этих открытий, этих поисков.
Интерес, который он с юных лет проявлял к клинописи, китайским иероглифам, восхищение старинными средневековыми книгами позволили ему сразу почувствовать значимость того, что кубисты вводили в свои картины буквы и слова, и понять, что такой синтез типографики и живописи является признаком намечающейся культурной революции.
Результатом пристрастия поэта к творениям прошлого стали сборники «Гниющий чародей» и «Бестиарий». Используя традиционные жанры, он пытался создать произведения современной литературы. В «Гниющем чародее» Аполлинер отталкивался от жанра средневековых мистерий, споров, диалогов; в «Бестиарии» — от фольклорной, религиозно-нравственной традиции средневековой литературы.
Сброник каллиграмм был, как свидетельствует его подзаголовок («И я тоже художник»), поэтическим ответом на захват букв и слов живописью кубистов. Но проблема отношений между стихотворением, его иллюстрацией и всей страницей в целом ставится уже в сборнике «Бестиарий, или Кортеж Орфея».
Отказ от пунктуации в «Алкоголях» позволял словам свободно взаимодействовать между собой (поскольку грамматический анализ позволяет отнести одно и то же слово к разным фразам), и, следовательно, придавал особую значимость их взаимному расположению, давал словам такую многозначность, которую они могли бы иметь на живописном полотне, к тому же таким образом подчёркивался визуальный аспект слова и сам облик текста значительно упрощался.
Достаточно напечатать текст любого стихотворения из «Алкоголей», а потом то же стихотворение с пунктуацией, соответсвующей требованиям грамматики, чтобы убедиться насколько оригинальный вариант более ровный, упорядоченный, «квадратный» и, если стихотворение написано правильными, симметричными строфами, насколько лучше они смотрятся на странице.
Благодаря этому отказу от пунктуации типографика Аполлинера приобретет новый характер, новую окраску, поэт принуждает нас к иному типу чтения, когда каждый стих произносится отдельно от других. Ведь поскольку читатель не предупреждён точкой о том, что фраза закончилась, он обрывает её неожиданно, заставляя её окончание повиснуть в воздухе, тогда как при нормальном чтении автоматически понизил бы голос.
Каждая из этих строчек, вместо того, чтобы подчиняться правилам образования и функционирования французской фразы, предстаёт перед нами «плоской», единичной, такой, как она была напечатана.
Как, например, в стихотворении «Прощание» («L'Adieu»):
J’ai cueilli ce brin de bruyиre.
L’automne est morte souviens-t'en.
Nous ne nous verrons plus sur terre.
Odeur du temps brin de bruyиre.
Стихотворения Аполлинера, таким образом, состоят из ровных граней, которые складываются в единое целое в зависимости от той точки зрения, которую мы выбираем, от смысла, который мы в эти строки вкладываем. Такое решение очень близко манере кубистов.
В то время как классическая рифма подчёркивает окончание стиха, отсутствие пунктуации и смешение рифмованных и нерифмованных строк привлекает внимание скорее к их началу и тому, как они выровнены. Смещение полей, применяемое в классической типографии для придания симметрии строфам, написанным разным размером, обретает у Аполлинера особую значимость.
Если говорить о «Каллиграммах», первое, что поражает читателя по сравнению с предыдущим сборником, — это то, что книга разделена на шесть почти равных по объёму частей, где стихотворения расположены в довольно строгом хронологическом порядке. Каждая из частей сборника имеет собственный неповторимый ритм, окраску, но, в то же время, они тесно связаны между собой общностью и повторением тем и мотивов, использованием сходных форм и приёмов. Как отмечает Мишель Бютор, «они похожи на грани куба, первая из которых повёрнута в сторну довоенного времни, последняя — в сторону победы».
За исключением «классического» смещения строки для придания стихотворению симметрии и передвижения, неизбежного для версета, когда переносимая часть строки начинается с маленькой буквы, в «Алкоголях» есть только два стихотворения, в которых Аполлинер использует смещение «экспрессивное», значимое (это «Путешественник» («Le Voyageur») и «Пылающий костёр» («Le Brasier»). В «Каллиграммах» этот приём используется значительно шире.
Например, стихотворение «Шпионка» («L'Espionne») состоит из трёх строф, каждая из которых включает себя четыре восьмисложных стиха. При этом вторая строфа выглядит так:
Tu te dйguises.
A ta guise.
Mйmoire espionne du coeur.
Tu ne retrouves plus d’exquise.
Ruse et le coeur seul est vainqueur.
Здесь купюра первого стиха позволяет акцентировать внимание на внутренней рифме.
В стихотворении «Праздник» («Fкte») пять строф, состоящих их четырёх стихов. К пятой строфе, завершающей, добавлен ещё один, пятый, стих. Вторая строфа расположена следующим образом:
Deux fusants.
Rose йclatement.
Comme deux seins que l’on dйgrafe.
Tendent leurs bouts insolemment.
IL SUT AIMER.
quelle йpitaphe.
Как и в случае с предыдущим стихотворением, первый стих разбит на два, чтобы сделать более очевидной внутреннюю рифму, но разделение этих полустиший становится гораздо более явным в связи с тем, что они расположены на разных строчках.
В остальных строфах «Праздника» некоторые стихи немного смещены по отношению к другим. Они расположены чуть дальше от края страницы, и их следует произносить тише и, в то же время, быстрее, чем другие строки. Такой приём используется в классической типографике, когда при строках с разными размерами, самые короткие смещаются, чтобы соблюсти идеал симметрии. Здесь же смещённые строки, хотя и состоят из того же числа слогов, что и остальные, имеют меньшую длину:
Feu d’artifice en acier.
Qu’il est charmant cet йclairage.
Artifice d’artificier.
Mкler quelque grвce au courage.
Un poиte dans la forкt.
Regarde avec indiffйrence.
Son revolver au cran d’arrкt.
Des roses mourir d’espйrance.
L’air est plein d’un terrible alcool.
Filtrй des йtoiles mi-closes.
Les obus caressent le mol.
Parfum nocturne oщ tu reposes.
Mortification des roses.
Смещённые строки, более тихие, более быстрые, кажутся помещёнными в скобки.
В этом стихотворении особенно выделяется эпитафия, написанная заглавными буквами. Единственное изменение шрифта (кроме названий, посвящений и эпиграфов), которое встречается в «Алкоголях» — это переход от прямого шрифта к курсиву. Этот приём используется в трёх стихотворениях «Песнь несчастного в любви» («La Chanson du Mal-Aimй»), «Синагога» («La Synagogue») и «Женщины» («Les Femmes»), из которых становится ясно, что разница между курсивом, более плавным, гладким, округлым и прямым шрифтом, более чётким, устойчивым соответствует разнице между устной и письменной речью.
Фразы же, написанные заглавными буквами, воспринимаются ещё более чем все остальные, принадлежащими письменной речи. Они выглядят более яркими, сильными, значимыми, они как бы подчиняют себе остальное стихотворение, как и название, написанное таким же шрифтом. Однако если название ставится вверху страницы, то здесь само стихотворение служит обрамлением для пассажа из заглавных букв, поэтому он выделяется ещё сильнее, становится своей собственной иллюстрацией.
В «Каллиграммах» Аполлинер использует такой новаторский приём, как изменение направления строк. Вместо того, чтобы располагать их по горизонтали, он заставляет некоторые из них переворачиваться, менять направление (что позволяет наиболее явно разделить стихотворение на отдельные фрагменты), как в стихотворениях «Идёт дождь» («Il pleut»), «Клубы дыма» («Fumйes»). В других стихотворениях строки мягко поднимаются, например, в «СП» («SP»), в третьих — этот подъём гораздо резче, заметнее, например, в стихотворении «Вата в ушах» («Du Coton dans les Oreilles «) или «Наводка» («Visйe»).
В некоторых стихотворениях отдельные строки располагаются вертикально. Вертикальное расположение позволяет последовательно расположить рядом несколько фраз, например, присоединить к какому-либо стиху заметку на полях или окружить строфу несколькими замечаниями, как это происходит в стихотврениях «Эшелон» («Йchelon») или «Дуга» («Saillant»).
Строка, которая способна поворачиваться на странице, может делаться гибкой, как в стихотворении «Наводка «(«Visйe»), скручиваться спиралью, как в «Далеко от голубятни» («Loin du pigeonnier»), бить ключом и падать, распахивать крылья, например, «Зарезанная голубка и фонтан» («La Colombe poignardйe et le Jet d’Eau»), оборачиваться, делать круг как в «Сердце Короне и Зеркале» («Coeur Couronne et Miroir»), и в результате она сама изображает, рисует контур предмета.
Эти каллиграммы-изображения в первую очередь притягивают внимание при прочтении сборника. Следует заметить, что наиболее яркие каллиграммы этого типа принадлежат к самым ранним опытам Аполлинера и что именно стремление соперничать с живописью или же желание учиться у неё привело поэта к поискам в области расположения текста на странице.
Кончено же, напечатанные линии сохраняет некоторую жёсткость, которая ограничивает рисунок довольно узкими рамками (по крайней мере, так было во времена Аполлинера, поскольку современные технические средства позволяют создавать гораздо более изящные и свободные произведения), и ради формы изображения зачастую приходится жертвовать его чёткостью, что далеко не всегда служит выражением замысла автора. Иногда может возникнуть мысль, что лучше было бы разделить стихотворение и иллюстрацию, чем пытаться выполнить рисунок с помощью строк. Но это не так, потому что смысл слов изменяется в зависимости от того, какое место они занимают.
Каллиграммы-изображения открыли перед Аполлинером новый источник вдохновения, близкий к тому, что подтолкнул его к созданию стихотворений-бесед и благодаря которому были созданы такие стихотворения-картины, как «Пейзаж» («Paysage»), «Путешествие» («Voyage»), «Зарезанная голубка и фонтан» («La Colombe poignardйe et le Jet d’Eau») и, в особенности, стиxотворения-натюрморты («Галстук и Часы» («La Cravate et la Montre»), «Сердце Корона и Зеркало» («Coeur Couronne et Miroir»). В этих-то стихотворениях и заметны те ростки, из которых выросло искусство Понжа.
Отношения, связывающие разные части этих текстов значительно отличаются от тех, которые могли бы их связывать, если бы они были расположены иначе, одни под другими. Форма таких каллиграмм заставляет воспринимать их симультанно, одновременно. Например, элемент «Зеркало» из «Сердца Короны и Зеркала», вот как он выглядел бы при классическом расположении строк:
Dans ce miroir je suis enclos vivant et vrai.
comme on imagine les anges et non comme sont les reflets.
Имя поэта здесь может служить только подписью, тогда как в стихотворении его место в центре зеркала, нарисованного фразой, делает из имени настоящий портрет (а всем известно то важнейшее значение, которое придавал имени «Вильгельм Костровицкий»).
При исследовании часов в стихотворении «Галстук и часы» очень сложно выстроить отдельные его элементы в линейной последовательности, к тому же, выстроенные так, они не имеют особого смысла. Однако если взглянуть на слова так, как их расположил Аполлинер, можно обнаружить, что некоторые из них представляют собой изящное толкование, интерпретацию цифр, написанных на циферблате:
un: mon coeur, (один: моё сердце).
deux: les yeux, (два: глаза).
trois: l’enfant (три: ребёнок).
quatre: Agla (четыре: Агла).
cinq: la main (пять: рука).
six: Tircis, (шесть: Тирсис).
sept: la semaine (семь: неделя).
huit: l’infini redressй par un fou de philosophe, (восемь:бесконечность, выпрямленная сумасшедшим философом).
neuf: les muses aux portes de ton corps (девять: музы у дверей твоего тела).
dix: le bel inconnu, (десять: прекрасный незнакомец).
onze: et le vers dantesque luisant et cadavйrique, (одиннадцать: и дантовский стих, сияющий и полный трупов).
douze: les heures (двенадцать: часы) Стихотворение «Письмо-Окен» («Lettre-Ocйan») требует особого анализа. По сути, оно обладает поразительной пластической силой и выразительностью, и его построение гораздо сложнее, чем изображения, создаваемые стихотворениями-натюрмортами. Остановимся только на двух идеограммах Эйфелевой башни, которые являются основной составной частью стихотворения, при этом первая идеограмма становится как бы эскизом второй:
Sur la rive gauche devant le pont d’Iйna.
На правом берегу перед мостом Йена От этих строк лучами расходятся десять фраз, криков, например: «Да здравствует Республика» («Vive le Rйpublique»), «Я видел тысячи и тысячи ключей» («Des clefs j’en ai vu mille et mille»), «Да здравствует Папа» («Evviva il Papa» — итал.).
И вторая идеограмма: «Высотой 300 метров» («Haute de 300 mиtres»), oбрамлённая четырьмя концентрическими кругами слов-звукоподражаний: сирены, шум автобусов, звуки грамофонов и новые башмаки поэта. Всё это сопровождается ещё десятью обрывками разговоров, расположенными так же в форме лучей.
Речь здесь идёт о создании нового, иного, остранённого видения картины мира, свойственного для поэтики и эстетики начала века. Семиотизация звуковых, тактильных и прочих сенсорных аспектов реального мира делала их носителями трансцендентальных смыслов и в идеале должна была привести к созданию нового, возможно даже всепланетарного языка. Для поэтов этой поры было характерно стремление к тому, чтобы заменить словесный язык языком, имеющим совершенно иную природу, грамматику которого ещё только предстояло отыскать. Жест в ней должен составлять и материю, и главный принцип.
Язык нового времени тяготеет к некоему абсолюту, который превосходил бы все ограничения, налагаемые национальными, узуальными, жанрово-видовыми и прочими конвенционализмами. Это язык иного измерения, где время и пространство, вербальные и невербальные средства выражения оказываются единосущностными и взаимообратимыми. Это и приводит к видимой потере логических связей, поэтому такой язык неподвластен традиционному синтаксису художественного текста. Это язык тотальности, следовательно, он оперирует одновременно средствами всех искусств.