Введение.
Слово и образ
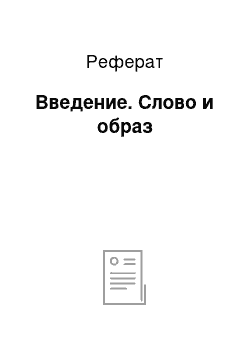
Прежде всего, очевидно, что тропы исторически и семантически укоренены в синкретических формах образа и выросли из параллелизма (а в более далекой перспективе — из кумуляции). Лучше всего исследовано в этом плане сравнение. Есть много данных за то, что оно развилось из отрицательного параллелизма. Хотя Веселовский не сформулировал данную идею прямо, но то, что он рассмотрел сравнение вслед… Читать ещё >
Введение. Слово и образ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Публикуемые материалы — часть курса лекций по исторической поэтике, прочитанного автором в Тверском университете в 2000;2001 годах. В курсе рассматривается генезис и развитие словесного образа в литературе на протяжении трех больших стадий, выделяемых современной наукой в истории поэтики.
Лекция 1. Словесный образ в эпоху синкретизма
Слово в эпоху синкретизма. Проблема генезиса и исходной формы образа. Эволюция образного сознания в эпоху синкретизма. Кумуляция как наиболее архаическая форма образа, ее историческая семантика. Параллелизм, его формы и историческая семантика. Рождение ранних форм тропа, их своеобразие и историческая семантика. Возникновение системы образных языков Основатель исторической поэтики А. Н. Веселовский называл эпохой синкретизма древнейшую стадию развития искусства, которую современная наука локализует во временных границах от палеолита до VII—VI вв. до н. э. в Греции и первых веков н.э. на востоке. Это огромная эпоха, художественным принципом которой ученый называет синкретизм (нерасчлененность). Она еще не знает авторства в его современном смысле, предшествует эпохе личного творчества и вырабатывает художественный язык, который станет материалом всей последующей литературы. Данные современной науки говорят, что дольше всего принцип синкретизма сохраняется в словесно-образной структуре художественного произведения. Поэтому мы в дальнейшем будем относить к данной эпохе не только тексты, в прямом смысле не отделенные от ритуала, но и те, в которых еще не преодолен принцип нерасчлененной целостности, именуемый Веселовским синкретизмом.
Известно, что в архаическом сознании слово не отделено от того, что оно обозначает, или от предмета высказывания. Например, слово «дерево» и само дерево предстают для такого сознания не как две различные реальности, словесная и предметная, а как одна нерасчленимая реальность. Это значит, что слово воспринимается как нечто субстанциальное.
Формулируя более позднее отношение к слову (и сам его оспаривая), К. Случевский писал:
Но это вздор, обманное созданные!
Слова — не плоть… Из рифм одежд не ткать!
Слова бессильны дать существованье, Как нет в них также сил на то, чтоб убивать…
Однако для человека эпохи синкретизма слова — именно плоть, они способны дать и пресечь существование, из них можно «ткать», их можно «тесать» или строить ими лодку, как в «Калевале». Известно этимологическое родство санскритского «taksati» (тесать, плотничать), авестийского «tasan», русского «тесать», древнегреческого «тэхнэ», а в работах, посвященных реконструкции индоевропейского поэтического языка, выявлена одна из его устойчивых формул — «*uekos teks» (составлять слова вместе). В этой формуле «teks» не является, как может показаться, метафорой, а имеет мифологически буквальный смысл. Тропы, то есть слова, употребляемые в переносном значении, на ранних стадиях языкового и эстетического сознания невозможны по определению: для того, чтобы они появились, слово для говорящего должно отделиться от предмета и должны дифференцироваться сами понятия прямого и переносного смысла. Как показали исследования по исторической поэтике, окончательно этого не происходит даже в древнегреческой литературе.
В то же время, интересующее нас слово многозначно. Известно, что первобытный человек «употреблял какое-нибудь слово для обозначения многообразнейших явлений, с нашей точки зрения ничем между собой не связанных. Более того, одно и то же слово могло обозначать прямо противоположные понятия — и верх, и низ; и землю, и небо; и добро, и зло». Н. Я. Марр считал даже, что в развитии языка был этап, когда существовало лишь одно слово (почти Слово), имевшее универсальный смысл, а сегодня наука после реконструкции языковых семей и сверхсемей начинает приближаться к языку палеолитической эпохи, в котором предполагается нечто похожее. Независимо от верности или ошибочности этих гипотез, очевидна исходная многозначность слова в языке.
Для ее объяснения М. М. Бахтин предложил различать в слове «тему» и «значение». Тема — «определенный единый смысл, принадлежащий высказыванию как целому» и неотделимый от внесловесных моментов высказывания. Значение же — это «все те моменты высказывания, которые повторимы и тождественны себе при всех повторениях». Ученый видел специфику архаического слова в том, что оно «в сущности почти не имеет значения; оно все — тема; его значение неотделимо от конкретной ситуации его осуществления. Это значение так же каждый раз иное, как каждый раз иной является ситуация. Здесь тема, таким образом, поглощает, растворяет в себе значение, не давая ему стабилизироваться и хоть сколько-нибудь отвердеть. Но по мере развития языка, по мере расширения запаса звуковых комплексов, значения начинают затвердевать по основным, наиболее повторяющимся в жизни коллектива линиям тематического применения того или иного слова». Таким образом, понижение тематизма слова имеет своим пределом его овеществление. С этой точки зрения архаическое (мифологическое) слово при всей своей неотделимости от предмета и ситуации — менее всего является овеществленным.
Наконец, как показали исследования (особенно работы А.А. Потебни), в архаическом слове предельно ощутима и значима его внутренняя форма — этимологическое значение, в котором жива связь с тем представлением, которое послужило возникновению слова (такова, например, связь с «оком» в слове «окно»).
Показательно, что ощутимость внутренней формы, как и тематизм слова, понижается по мере развития естественного языка (в языке поэтическом картина более сложная).
Сказанное поможет нам лучше понять словесно-художественный образ в эпоху синкретизма, а может быть, и образ вообще в той мере, в какой он обладает «генетическим кодом», сложившимся в то отдаленное время.
Мы акцентируем на этом внимание потому, что феномен художественного образа до сих пор не может считаться достаточно проясненным именно в силу преобладающего неисторического подхода к нему.
Историческая поэтика призвана осознать и до сих пор странный и загадочный статус образа, и его специфическую модальность, которую отмечали многие исследователи и особенно поэты, например К. Случевский, в уже упоминавшемся стихотворении:
Ты не гонись за рифмой своенравной И за поэзией — нелепости оне:
Я их сравню с княгиней Ярославной, С зарею плачущей на каменной стене.
Ведь умер князь, и стен не существует, Да и княгини нет уже давным-давно;
А все как будто, бедная, тоскует, И от нее не все, не все схоронено.
Но это вздор, обманное созданье!
Слова — не плоть… Из рифм одежд не ткать!
Слова бессильны дать существованье, Как нет в них также сил на то, чтоб убивать…
Нельзя, нельзя… Однако преисправно Заря затеплилась; смотрю, стоит стена;
На ней, я вижу, ходит Ярославна, И плачет, бедная, без устали она.
Сгони ее! Довольно ей пророчить!
Уйми все песни, все! Вели им замолчать!
К чему они? Чтобы людей морочить И нас то здесь — то там, тревожить и смущать!
Смерть песне, смерть! Пускай не существует!
Вздор рифмы, вздор стихи! нелепости оне…
А Ярославна все-таки тоскует В урочный час на каменной стене.
Здесь классически выражено характерное для современного эстетического сознания двойственное переживание образа: ощущение предельной условности, как бы «несуществования» его, но равносильное этому видение его несомненнейшей и бесконечно значимой реальности. Не менее загадочно и то, что словесный образ является «носителем нерасчлененных, отрицающих друг друга значений». И связано это с тем, что он более всего, созданного человеком, приближается к «живому», «органическому». Это не расчленяющая понятийная структура, в ее основе лежит не дихотомия, не принцип «или-или», вообще не закон исключенного третьего и даже не «оппозиция», а на порядок более сложный принцип целостности, заставляющий вспомнить то, что исследователи истории мышления называют «дипластией». Видимо, загадки словесного образа отсылают нас к его генезису и требуют к себе исторического подхода.
К сожалению, до сих пор не только живо, но почти общепринято внеисторическое представление о том, что образность художественного слова равна его «фигуральности», его употреблению в переносном смысле, или тропеичности. Эта некритическая уверенность пришла к нам из античных и средневековых поэтик и риторик и почти не была поколеблена ни трудами А. Н. Веселовского и А. А. Потебни, ни изучением мифа, особенно интенсивным в ХХ веке. Однако благодаря этим исследованиям сегодня вполне очевидно принципиальное различие между мифологической и собственно тропеической образностью. По определению А. Ф. Лосева, то, что в мифе было «действительностью в буквальном смысле слова, то есть действительными событиями и во всей реальности существующими субстанциями», в сфере позднейшей поэтической образности оказалось «феноменально и условно трактованным» .
Сравнительная молодость собственно поэтической образности и ее непервичность были осознаны А. Н. Веселовским, который реконструировал образный язык параллелизма, более древний, чем троп, и исторически ему предшествовавший. Самым архаическим и исходным типом образа ученый считал двучленный параллелизм. Общий вид его таков: «Картинка природы, рядом с ней таковая же из человеческой жизни; они вторят друг другу при различии объективного содержания, между ними проходят созвучия, выясняющие, что в них есть общего». Считая, что в параллелизме акцентировано именно «общее», ученый отмечал, что «когда между объектом, вызвавшим его игру, и живым субъектом аналогия сказывалась особенно рельефно, или устанавливалось их несколько, обусловливая целый ряд перенесений, параллелизм склонялся к идее уравнения, если не тождества» :
Хилилася вишня Вiд верху до кореня, Поклонися Маруся Через стiл до батенька.
Здесь отношениями параллелизма связаны не только картина природы (1−2 строки) и картина человеческой жизни (3−4 строки) в целом, но между ними проходят сплошные соответствия, затрагивающие все их составляющие: вишня Маруся; хилилася поклонися; вiд верху через стiл; до кореня до батенька.
И факты, приведенные А. Н. Веселовским, и более поздние данные говорят о том, что двучленный параллелизм был стадией образного развития, через которую прошли все мировые литературы, позднее очень разошедшиеся в своих путях. Для понимания его сущности имеет принципиальное значение — и Веселовский это специально подчеркивал — то, что в нем «дело идет не об отождествлении человеческой жизни с природною, и не о сравнении, предполагающем сознание раздельности сравниваемых предметов, а о сопоставлении по признаку действия, движения». Таким образом, параллелизм, по Веселовскому, тип образа, основанный на принципе синкретизма, ибо в нем идеи тождества и различия еще не отделились друг от друга и не стали самоценными: дерево не тождественно девушке, но и не отлично от нее (поэтому и нет сравнения, предполагающего сознание раздельности явлений), они именно синкретичны.
Это открытие ученого составило эпоху в науке, но оно до сих пор мало осознано и из него не сделаны те выводы, дорогу к которым оно открывает. Во-первых, не было всерьез переосмыслено в его свете историческое место тропов в сопоставлении с параллелизмом. Во-вторых, сам параллелизм после Веселовского начал толковаться внеисторически и зачастую с акцентом на чисто лингвистических его аспектах. Так, лингвистическое перетолкование параллелизму дал Р. О. Якобсон, а в современных семиотических исследованиях он начал осознаваться как некий всеобщий принцип построения текста, и был предложен термин «универсальный параллелизм» с характерной мотивировкой: «Чем менее содержательно (добавим: и менее исторично. — С.Б.) представление о параллелизме, тем больше он охватывает явлений» .
Если же подойти к параллелизму исторично, то нужно, во-первых, попытаться вскрыть его изначальную семантику, а во-вторых, поставить вопрос, действительно ли перед нами самый архаический и исходный тип образа.
Хотя глубокая древность параллелизма несомненна, в том, что это «первообраз», усомнился еще А. А. Потебня. Он считал, что «параллелизм выражения» возник сравнительно поздно, ибо сама его внутренняя форма «указывает на затемнение смысла символов, потому что если последние понятны, то и объяснять их незачем». Действительно, в интересующей нас образной форме единство человека и природы уже художественно разыгрывается, а это значит, что оно стало проблематичным и требующим «доказательств». Сам Потебня считал более архаичными символ-приложение («конь-сокол», «снег-пороша») и обстоятельство в творительном падеже (типа «полечу я зегзицею по Дунаю»), являющиеся отражением того времени, когда «действительно человек не отделял себя от внешней природы»: ведь символ-приложение «сливается с обозначаемым в одно целое, а творительный падеж напоминает превращения». К сожалению, Потебня не развил намеченные здесь идеи и не создал своей исторической типологии словесного образа.
К возражениям Потебни против приоритета параллелизма можно добавить следующее. Параллелизм основан на сопоставлении природы и человека по признаку действия, движения. Но сегодня известно, что этот признак выделяется эстетическим сознанием далеко не сразу. О. М. Фрейденберг описала такую стадию синкретизма, когда в образе нет именно движения — он выступает как нечто не имеющее длительности, плоскостное, точкообразное, не связанное с предыдущим и последующим «и само внутри себя не знающее связности», «не вскрывающее качественных признаков, не развертывающее никаких новых черт и не способствующее движению темы О какой бы динамике он ни говорил, форма его выражения неподвижна» .
Перед нами еще не параллелизм, а более архаическая образная структура, основанная на «мышлении тождествами», на «восприятии мира в форме равенств и повторений». Однако и такой образ держится, по Фрейденберг, не на абсолютном и глухом тождестве: это не сплошная неразличимость, а семантическое тождество при различии форм, притом различие здесь является способом проявления внутренней нерасчлененности. К сожалению, такую образную структуру исследовательница подробно рассмотрела лишь на уровне сюжета; говоря же о собственно образе, она часто использовала (вслед за Э. Кассирером) малоудачный, на наш взгляд, термин «первобытная метафора», хотя принцип здесь действует отнюдь не метафорический.
После работ О. М. Фрейденберг новые данные для решения проблемы «первообраза» были получены в ряде исследований, посвященных палеолитическому искусству, в том числе изобразительному. Древнейшие палеолитические изображения представляют собой «одиночные фигуры или группы фигур, иногда перекрывающие друг друга. Визуально композиционная связь между сопредельными фигурами не обнаруживается (что не исключает возможности семантических связей между ними)». Таким образом, здесь уже знакомый нам по трудам Фрейденберг тип структуры. «Создается впечатление, — пишет В. Н. Топоров, — что в палеолитических памятниках организующее начало (связанное с композицией) сосредоточивается не столько в пределах отдельных изображений, сколько в совокупности следующих друг за другом изображений». Но в то же время у нас нет никаких оснований настаивать на том, что между ними существует «какая-либо иная связь, кроме присоединительной» .
В качестве аналогии к описанной реликтовой структуре приведем австралийскую песню, типологически по всем признакам восходящую тоже к палеолиту:
Мараламарала дъигалбуга биндинибинбири марабинди.
Ее буквальный перевод: «Развевающиеся волосы/ семена травы треугольный клин/ звезда/ белый кристалл носовой кости». К анализу этой песни мы еще вернемся, сейчас же заметим, что тот же тип присоединительной связи, который имеет место в палеолитических изображениях и в нашей песне, В. Н. Топоров находит «в одном из архаичнейших заговоров, относимом по ряду соображений к каменному веку:
Стыкася, сростася Тело с телом, Кость с костью, Жила с жилой.
Исследователь предположил также, что палеолитические изображения и приведенный фрагмент заговора имеют структурное родство с «многочисленными фольклорными текстами с участием групп животных (типа „Теремок“), основанными на последовательном присоединении или изъятии объекта» .
Сказки типа «Теремок» имеют свое название — это кумулятивные сказки, глубочайшая древность которых не вызывает сомнений. В. Я. Пропп, описавший их, считал, что принцип нанизывания здесь «не только художественный прием, но и форма мышления» — «продукт более ранних», «реликтовых» форм сознания. Но дальше, этих интересных соображений ученый не пошел, предоставив нам разгадывать, что же это за «реликтовые» формы. Наконец, сравнительно недавно в специальной работе было выявлено, что в наиболее архаических фольклорных текстах (якутских) организующим принципом является не параллелизм (который зафиксирован в более молодых русских, украинских, молдавских, адыгских песнях), а «последовательность действий и перечислений, накопительный, описательный способ изображения» .
Итак, в последнее время исследователи с разных сторон подходят к выявлению какой-то реликтовой, восходящей к палеолиту стадии развития образа, предшествовавшей параллелизму. Но эта стадия до сих пор не осознана концептуально и не имеет своего обозначения. Мы будем называть принцип, лежащий в ее основе, кумуляцией, поскольку такой термин уже существует в науке, хотя он до сих пор прилагался к сюжету, а не к образу. Рассмотрим особенности кумулятивного образа на примере уже приведенной австралийской песни.
Информаторы объясняли эту песню так: Вади Гудьяра (Два Человека, Белая Гоана и Черная Гоана — синкретические существа, соединяющие в себе черты божеств, людей, зверей, рептилий и птиц, а в мифах фигурирующие как культурные герои, учредители тотемных обрядов) «бегут с развевающимися волосами по равнине, покрытой травой, у которой такие семена. Их белые кости в носу сверкают на солнце, как звезды». Такое объяснение является анахронизмом — это интерпретация и перевод песни на другой образный язык.
Прежде всего, песне в таком пересказе придан повествовательный характер, в ней появилась некая последовательность действий, чего в оригинале нет, ибо он анарративен и является, если использовать определение О. М. Фрейденберг, «стоячим рассказом», не имеющим длительности и связности. Затем, в пересказе искажен основной принцип песни — в нее внесено сравнение («как звезды»), тогда как в оригинале сравнения нет и быть не может, ибо оно предполагало бы сознание различия сополагаемых явлений. На самом же деле в нашей песне все члены образного ряда, оставаясь самостоятельными (как палеолитические изображения) и не вступая друг с другом ни в какие подчинительные связи, просто присоединены друг к другу, или «нанизаны» :
Волосы, семена /трава/, звезда, кость.
Перед нами кумулятивный принцип связи, с тою, однако, существенной поправкой к привычному пониманию термина, что в данном случае нет как раз «увеличения» или уменьшения, восходящего или нисходящего ряда, который появляется в более поздних формах кумуляции. Инвариантно здесь именно и только рядоположение, сочинительное присоединение без всякого развития.
Существенная особенность описываемого типа образа в том, что он не отделен от изображаемого и по Фрейденберг, «тавтологичен». Перед нами пение, архаическая форма несобственной прямой речи, воспроизводящей голос не только исполнителя, но и героя (Вади Гудьяра). В такой форме высказывания речь не опосредована третьим лицом: следов присутствия «автора» в структуре высказывания нет, они есть только в самом его факте. Подобная неопосредованная «речь» говорит не о героях, но как бы «говорит героями», потому что волосы, трава, звезда и кость — сами Вади Гудьяра. Как герои — синкретические существа, так и их атрибуты воспроизводят нерасчлененно-слитный космос.
В определенном смысле можно говорить о «дообразной» природе такой структуры. Ведь песня не изображает Вади Гудьяра, она сама и есть Вади Гудьяра, синкретический космос, трудно отличимый от хаоса. Тем не менее, это космос, хотя и специфически организованный.
Принципы его организации, очевидно, таковы:
Простое рядоположение, нанизывание отдельных и самостоятельных слов-образов.
Отсутствие иной выраженной связи, чем сочинительное присоединение, рядоположение.
Семантическое тождество при внешнем различии форм.
О последнем следует сказать особо.
Семантическое тождество проявляется здесь двояко. Во-первых, каждая деталь (волосы, трава и т. д.) по закону партиципации (Л. Леви-Брюль) является частью, тождественной целому, поэтому, перечисляя то, что с нашей точки зрения является атрибутами героев, песня всякий раз говорит о «целом» герое под разными обликами. Во-вторых, в этом сплошном (по существу тавтологическом) перечислительном ряду есть едва начавшие выделяться более и менее тесные смысловые связи, имеющие опору в мифологической семантике. Так, ближе друг к другу «волосы» и трава, чем каждый из них к тому, что идет дальше. И это понятно: волосы во всех мифологиях связаны с произрастанием, плодородием, эротической производительностью. В свою очередь, теснее, чем с другими атрибутами, связаны между собой звезда и кость, что также имеет опору в мифологических представлениях. Наметившаяся тенденция к образованию в сплошном ряду таких более тесных пар разовьется потом в то, что А. Н. Веселовский назовет параллелизмом.
Таким предстает самый архаичный из известных нам сегодня типов образа — кумуляция. Установить хронологические границы господства данного образного языка и его эволюцию при современном состоянии изученности проблемы затруднительно. Это дело будущих исследований, которые сулят много открытий, важных и для современной литературы. Мы можем пока только осторожно предположить, как совершался переход от кумуляции к параллелизму, который должен быть признан вторым историческим типом образа — все еще в рамках синкретической поэтики.
Мы уже отмечали в австралийской песне, в ее сплошном перечислительном ряду, не расчленяющем природу и человека, более и менее тесные семантические связи. Внимательный взгляд позволяет увидеть, что один из членов пары представляет человеческий план (волосы), другой — природный (трава). Перед нами ячейка будущего параллелизма. При этом параллелизм не только сохранил в своей структуре кумулятивный принцип сочинительного присоединения, но по-новому выявил и структурировал его. Оба члена в параллелизме связаны сочинительной связью, но, в отличие от более свободной и аморфной кумуляции, здесь один член (притом обязательно первый) — картина природы, а второй — картина человеческой жизни.
Параллелизм оказался образной формой, в которой запечатлелась эволюция эстетического сознания от чистого синкретизма, представленного кумуляцией, к его новому этапу. А. Н. Веселовский, как мы помним, видел «идею» двучленного параллелизма в «уравнении, если не тождестве», и в этом плане отличал его от сравнения, предполагающего сознание исходной различенности сополагаемых явлений. В параллелизме нет ни абсолютного тождества, ни полного различения, и такая смысловая структура — феномен исторически возникший и возможный только на определенной стадии развития эстетического сознания. Исторически подходил, как мы помним, к «параллелизму выражения» и А. А. Потебня. По его концепции, данная образная форма несет в себе идею единства человека и природы в тот исторический момент развития сознания, когда эта идея перестала быть сама собой разумеющейся: выраженность обоих членов параллели говорит о том, что тождество здесь стремится быть представленным, разыгранным, а следовательно, уже нуждается в «доказательстве» .
Если использовать выработанное индийской поэтикой разграничение «выраженного» и «проявленного», то следует сказать, что в двучленном параллелизме выраженным является различие: оба соположенных явления (природа и человек) в своей внешней форме самостоятельны, разделены в пространстве текста и связаны сочинительной (а не подчинительной) связью. Но проявленным, то есть самой возможностью существования этого выраженного различия, здесь является именно синкретизм.
Иными словами, синкретизм в двучленном параллелизме исторически и логически первичный и более глубокий смысловой пласт, чем различие, тогда как принцип различия еще не обладает самоценностью и является лишь внешней формой, под которою зияет еще «допараллелистская», кумулятивная архаика.
Сказанное помогает понять историческую семантику параллелизма и его место между чистым синкретизмом кумуляции и чистым различением тропа.
В этом плане много говорит эволюция параллелизма, которая благодаря трудам А. Н. Веселовского представляется более или менее ясной.
Из двучленного параллелизма возникли, по Веселовскому, многочленный, одночленный и отрицательный.
Многочленный параллелизм образовался путем «одностороннего накопления параллелей, добытых притом не из одного объекта, а из нескольких сходных» :
Не свивайся, трава, со былиночкой, Не ластися, голубь, со голубкой, Не свыкайся, молодец, с девицей.
Можно сказать, что перед нами первая «критика начал» параллелизма, которая направляется, по Веселовскому, «к уменьшению образности» — конечно, образности именно параллелистского типа. Многочленный перебор параллелей как бы «открывает возможность выбора» и «указывает на большую свободу движения» .
Одночленный параллелизм сыграл не менее важную роль в развитии поэтической образности. Его простейший вид — тот случай, когда один из членов параллели (человеческий план. — С.Б.) «умалчивается, а другой является его показателем» :
Знал я, что была ты там, Знал, что шла ты по жнивью, Краснобедрая лиса, Но не знал я, что легко Может всяк тебя загнать, Кто охотником слывет (О. Батырай, пер. Э. Капиева).
Одночленный параллелизм не разрушает, по Веселовскому, образность, а «выделяет и развивает ее». В частности, из таких коротких одночленных формул развились символы народной поэзии. Генетическая связь с параллелизмом и воплощенным в нем народным преданием отличает «символ от искусственно подобранного аллегорического образа: последний может быть точен, но не растяжим для новой суггестивности, потому что не покоится на почве тех созвучий природы и человека, на которых построен народно-поэтический параллелизм». Подчеркнем, что символ по своему генезису принадлежит к синкретическому типу образа и этим принципиально отличается от позднейших тропов.
Завершает эволюцию параллелизма и вообще синкретического типа образности параллелизм отрицательный. Его принцип таков: «Ставится двучленная или многочленная формула, но одна или одни из них устраняются, чтобы дать вниманию остановиться на той, на которую не простерлось отрицание. Формула начинается с отрицания либо с положения, которое вводится нередко со знаком вопроса:
Не белая березка нагибается, Не шатучая осина расшумелася, Добрый молодец кручиной убивается" .
По Веселовскому, отрицательная формула есть «выход из параллелизма, положительную схему которого он предполагает сложившеюся». Она подчеркивает «одну из возможностей: не дерево хилится, а печалится молодец; она утверждает, отрицая, устраняет двойственность, выделяя особь. Это как бы подвиг сознания, выходящего из смутности сплывающихся впечатлений к утверждению единичного». Такова последняя форма синкретического образа. В ее внутренней структуре запечатлено то усилие, которое делает эстетическое сознание в своем стремлении начать ясно различать предметы.
После отрицательного параллелизма начинается качественно новая стадия развития художественного образа, основанная уже не на принципе синкретизма, а на принципе различения. Эпоха образного синкретизма закончилась, и признаком ее завершения стало рождение тропов. Но тропы родились в лоне параллелизма и еще долго не могли стать полностью самостоятельными и независимыми от него, что обусловило своеобразие их ранних форм.
Троп по самому своему существу связан с понятием, различением, рефлексией, вообще с новой моделью мира, формирующейся в процессе изживания синкретизма. Значение совершившегося в это время преобразования эстетического сознания трудно переоценить: по сравнению с ним все последующие художественные открытия выглядят лишь частностями. На языке тропов и благодаря этому языку человек впервые начал ясно различать феномены мира и смог, по замечательной формуле Веселовского, выйти «из смутности сплывающихся впечатлений к утверждению единичного». Без такого перехода к новому видению было бы невозможно все, что появилось в искусстве, начиная с античности. Конечно, это не значит, что родившееся теперь искусство было «лучше» архаического, просто оно стало иным, другим (что предполагало не только приобретения, но и потери).
В сфере образности эта инаковость проявилась в следующем. Мы отмечали, что принцип различения намечался уже в параллелизме, но действовал он на уровне внешней формы. Исторический смысл тропа в том, что в нем различенность и самостоятельность явлений была переведена в план проявления, на уровень внутренней формы, а потому принцип различия стал самостоятельным и отпочковался от принципа тождества. Принято считать, что тропы не различают, а, наоборот, сближают «далековатые понятия». Это так, но именно на уровне «выражения», внешней формы. Внутренней же формой, или «проявляемым» такого сближения, самим условием его существования является предварительное знание о различии: ведь сравнивать можно лишь то, что различно, хотя чем-то (феноменально, но не сущностно) похоже друг на друга. Сущностная нерасчлененность явлений, на которой зиждился параллелизм, стала теперь феноменальным сходством (на этом принципе основаны метафорические тропы), а мифологическое сопричастие (партиципация Л. Леви-Брюля) превратилась в столь же феноменальное отношение (на чем основаны тропы метонимические). Имея это в виду, обратимся к ранним формам тропа.
Аксиома исторической поэтики — понимание тропа как сравнительно молодого типа образа. По Веселовскому, метафора — «новообразование, являющееся в результате продолжительного стилистического развития»; в ней отражен уже не синкретизм, а собственно поэтическое видение мира. Фрейденберг также подчеркивала, что нам только кажется, будто первобытное сознание «создавало перенос одного явления на другое и тем его метафоризовало, — на самом деле сознание этого не делало, и никаких метафор первоначально не существовало» .
Как же видит историческая поэтика процесс становления этого образного языка?
Прежде всего, очевидно, что тропы исторически и семантически укоренены в синкретических формах образа и выросли из параллелизма (а в более далекой перспективе — из кумуляции). Лучше всего исследовано в этом плане сравнение. Есть много данных за то, что оно развилось из отрицательного параллелизма. Хотя Веселовский не сформулировал данную идею прямо, но то, что он рассмотрел сравнение вслед за отрицательным параллелизмом, заставляет думать, что он понимал эту последовательность не только как логическую, но и как историческую и видел в новой поэтической форме завершение начатого отрицательным параллелизмом выхода «из смутности сплывающихся впечатлений к утверждению единичного». По крайней мере, для него сравнение — «это уже прозаический акт сознания, расчленившего природу». В другом месте ученый связывает появление сравнения с «ослаблением идеи параллелизма, тождества, с развитием человеческого самосознания, с обособлением человека из той космической связи, в которой он исчезал как часть необъятного, неизведанного целого. Чем больше он познавал себя, тем более выяснялась грань между ним и окружающей природой, и идея тождества уступала место идее особости. Древний синкретизм удалялся перед расчленяющими подвигами сознания: уровнение птица-молния, человек-дерево сменилось сравнениями: молния, как птица, человек, как дерево» .
За происхождение сравнения из отрицательного параллелизма говорит и отмеченная в языке генетическая связь отрицательных частиц со сравнительными. Так, в литовском обе эти частицы обозначаются словом ney, причем сравнительное значение — более позднее. За это же говорит тот факт, что одна из самых древних форм компарации — развернутые эпические сравнения — вводится частицей ut, которая в древнегреческом языке употреблялась в отрицательном параллелизме и обозначала несуществующее, недостоверное, кажущееся, не факт, а предположение. Но «недостоверность», которая прежде имела буквальное значение, еще более усилена в развернутом сравнении, где она превратилась в отвлеченную категорию, в зрительный обман, кажимость («доксу»). Как показала О. М. Фрейденберг, гомеровские развернутые сравнения еще слишком тесно связаны с параллелизмом — и иносказательность их минимальна. В них «два члена еще рядоположны и переносность достигается буквально, путем перенесения черт одного предмета в другой средствами наглядной (зрительной) иллюзии» .
Глубокую связь с параллелизмом и неполное отделение от него обнаруживают и другие ранние формы компарации. Например, в индийских эпических сравнениях, которые исследователи назвали «отождествляющими», действует такой закон: в них могут сополагаться не любые явления (что возможно в сравнении современном), а лишь те, что связаны родством, имеющим опору в мифологической семантике, и когда-то были двумя членами параллелизма. Когда в «Махабхарате» говорится:
В стремительности подобный ветру, Быстротою схожий со скоростью ветра, Бхима, могучепламенный сын Ветра, Носился, как Ветер,.
то здесь субъект (Бхима) и объект (Ваю, Ветер) родственны буквально, поэтому они и могут сравниваться.
Исследователь, сопоставивший библейские и гомеровские сравнения, приходит к выводу, что «само сравнение есть не что иное, как переоформление мифологического тождества». Специфика библейских сравнений, по И. Франк-Каменецкому, состоит в том, что в них это переоформление остановилось на половине пути. Типичная форма их такова:
Праведный, как пальма, зеленеет.
Поэт следующей эпохи сказал бы: «Как пальма зеленеет, так праведный благоденствует». На фоне такого полного сравнения библейское кажется сокращенным, но, как показывает исследователь, оно не сокращенное; наоборот, наше — расширенное и до конца аналитическое. В библейском же, более архаическом и остаточно синкретическом, еще жива память о былом не условном, а буквальном тождестве человека и дерева, а потому можно сказать «зеленеет», не говоря «благоденствует», ибо это и так подразумевается древней воспринимательной моделью параллелизма, которая тут остаточно представлена. Когда такая связь забудется, нужно будет выговаривать все до конца, и сравнение действительно станет прозаическим актом сознания, расчленившего природу.
Глубоко связана с семантикой параллелизма и ранняя метафора. Веселовский считал, что она возникла из символа, являющегося формой одночленного параллелизма. Метафора и есть «одночленная параллельная формула, в которую перенесены некоторые образы и отношения умолчанного члена параллели». Механизм этого перенесения, по Веселовскому, таков: «Параллельная формула проникается не только личным содержанием опущенной, но и ее бытовыми, реальными отношениями. Сокол в неволе — это казак в неволе; он ведет соколицу, павлин паву на венчание Поэтический символ становится поэтической метафорой». Как видно из приведенного примера, фольклорная метафора специфична: она отлична от символа (одночленного параллелизма), но далека и от метафоры современной. Чтобы лучше увидеть ее специфику, присмотримся к небольшой группе русских песен, связанных со святочными гаданиями.
В них мы встречаем такие метафоры, как «полоть злачены перстни», «хоронить золото», метафорическую перифразу «бильице, змеяное крыльице» и др. Не нужно специально подчеркивать, насколько они для нас непривычны. Нам не удается увидеть основу — сходство, на которой они возникли. Но это невозможно, потому что они совсем не основаны на сходстве, на котором зиждется современная метафора. Ключ к ним мы получаем не из сходства явлений, а из параллелизма и мифологической семантики.
В самом деле, песни — свадебные гадания. «Перстень», «бильице», «золото» должны указать на жениха: «А кому выпадет злачен перстень, / А то ты, девка, за тем женихом». Так устанавливается параллелизм «перстень-девка», который потом многократно проводится в наших песнях. Перстень падает «В мак, да во мак, да во маков цвет», «В калину, в малину, в черную смородину» — все это символы невесты в свадебных песнях. Перстень роняют в «сад», «в зелен виноград», «идучи» или «летучи» через поле, что подчеркивает и дублирует семантику плодородия. Прямо выговорена она в параллелизме, в котором девица-утушка связывается с рожью-рождением: «Куда утка ушла, / Туда пыль прошла, / Куда я, молода, / Туда рожь густа». Этот параллелизм объясняет и метафору «пололи злачены перстни». Ведь если девка-перстень-поле — еще и рожь, то ее можно «полоть» (связь в фольклоре слов «пахать», «полоть» и «любить» общеизвестна). То, что перстень хоронят, ибо он еще и зерно, говорит о связи девки-поля с порождающим лоном земли, что объясняет и метафорическую перифразу «бильице, змеяное крыльице»: ведь змея — персонаж хтонического мира. ОБ этом же говорит и другая номинация кольца — «золото», поскольку и золото связано в мифологическом представлении с миром хтоническим. Очевидно, во всех этих случаях основой метафоры является не сходство, а система параллелей, угадываемая благодаря памяти мифа. Определенно первична и исходна здесь она, и именно из нее, а не сами из себя, могут быть поняты тропы.
Не только в фольклоре, но и в древнегреческой литературе метафора, по Фрейденберг, еще «не имеет самостоятельного характера и находится в полной зависимости от мифологической семантики образа». В ней еще обязательно «былое генетическое тождество двух семантик: семантики того предмета, с которого „переносятся“ черты, и семантики другого предмета, на который они переносятся». Поэтому здесь еще нет чистой «фигуральности», но «прежний мифологический образ приобретает еще один, „иной“ смысл себя самого, своей собственной семантики. Он получает функцию иносказания. Но иного сказания чего? Самого себя, образа. В самом деле, в любой античной метафоре переносный смысл привязан к конкретной семантике мифологического образа и представляет собой ее понятийный дубликат» .
Итак, эпоха синкретизма породила три последовательно возникавших типа образа: кумуляцию, параллелизм и троп. Два первых типа образа — синкретические (с учетом отмеченной нами переходности параллелизма), троп же, хотя он в то время не оторвался от пуповины параллелизма, уже по своему существу выходит за рамки синкретизма, а его окончательное оформление и расцвет приходятся на следующую эпоху поэтики. Завершая свое исследование развития форм образности, А. Н. Веселовский писал: «Метафора, сравнение дали содержание и некоторым группам эпитетов; с ними мы обошли весь круг развития психологического параллелизма, насколько он обусловил материал нашего словаря и его образов» .
Как видно из приведенной формулировки, ученый, хотя он и видел качественное отличие тропов, включал их в круг явлений психологического параллелизма, подчеркивая единство, некоторую данность содержательных образных структур, преднаходимых следующими эпохами поэтики. Помня о единстве, не забудем и о принципиальном различии синкретических форм образности и тропа.
Когда мы достаточно оценим это различие, то увидим, что с появлением тропа родилась не только совокупность образных форм, но и новая целостность образного языка. Она включает в себя разностадиальные языки образа, различные по своей исторической семантике и модальности, и предполагает возможность установления определенных отношений между ними. Отныне поэтический образ стал отношением двух принципиально разных типов слова. Он смог заговорить на двух противоположных и дополнительных (в смысле Н. Бора) языках: мифопоэтическом языке кумуляции-параллелизма и понятийном языке тропа. Как разворачивался впоследствии потенциально возможный диалог образных языков, мы увидим, когда будем говорить о следующих эпохах поэтики.